Многие рассуждают о пастырском выгорании — есть ли такой феномен, или это всего лишь отговорка, выдуманная для оправдания собственного неадекватного поведения? Протоиерей Игорь Прекуп делится своей историей выгорания и исцеления от него.
Пастырское выгорание — модное словосочетание. Одних оно привлекает некой свежестью, других отталкивает мирским душком. Что это: выдумка лукавствующего рассудка или реальное явление церковной жизни?
Смею предположить, что второе, поскольку вряд ли иначе о проблеме пастырского выгорания упомянул бы Святейший Патриарх Кирилл на Архиерейском совещании еще год назад, охарактеризовав это явление как «состояние, когда священнослужитель теряет мотивацию к несению пастырского служения, состояние хронической усталости и апатии, сопровождающееся сомнениями в наличии пастырского призвания и правильности выбора священнослужения как профессии и образа жизни».
Проще всего наказать
Итак, феномен есть, его существование не только признанно на высшем иерархическом уровне, но его рекомендовано принимать всерьез, и не только не отмахиваться как от блажи, или вменять в вину «выгоревшему», а напротив, отнестись к недугующему со всей чуткостью: «Здесь — особая ответственность епископа и епархиального духовника, — отмечает Святейший. — Проще простого будет наказать, запретить, отвернуться. Но не к этому призван архипастырь. Именно в такие моменты следует с особой остротой вспомнить литургическое приветствие „Христос посреди нас“, обращенное к „собрату и сослужителю“».







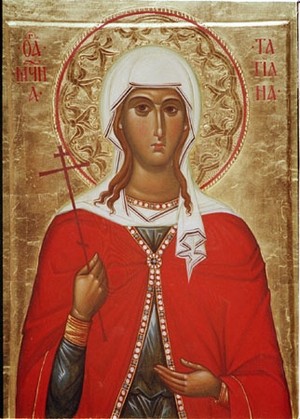




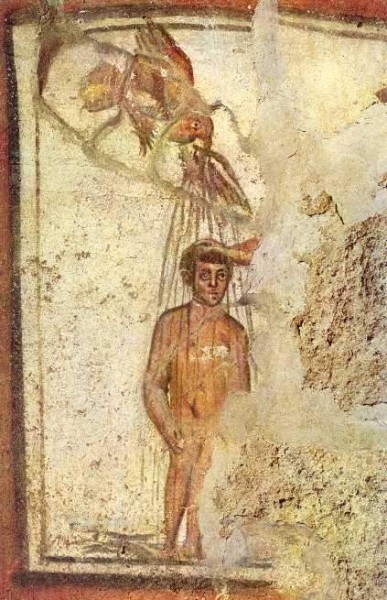

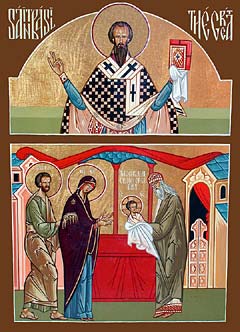 Само наречение этого имени является знамением величайшего служения вочеловечившегося Сына Божия, »ибо Он спасет людей Своих от грехов их» (Мф. 1, 21). В Ветхом Завете обрезание было установлено в прообраз Крещения новозаветного, в знак Завета с Господом, в знак очищения от первородного греха. Это еще не было полное, истинное очищение, которое установил Господь наш Иисус Христос, взяв на Себя грехи мира и пролив Свою Кровь на Кресте. Ветхозаветное обрезание было как бы наказанием за прародительское преслушание: »се бо в беззакониих зачат есмь и во гресех роди мя мати моя» (Пс. 50, 7).
Само наречение этого имени является знамением величайшего служения вочеловечившегося Сына Божия, »ибо Он спасет людей Своих от грехов их» (Мф. 1, 21). В Ветхом Завете обрезание было установлено в прообраз Крещения новозаветного, в знак Завета с Господом, в знак очищения от первородного греха. Это еще не было полное, истинное очищение, которое установил Господь наш Иисус Христос, взяв на Себя грехи мира и пролив Свою Кровь на Кресте. Ветхозаветное обрезание было как бы наказанием за прародительское преслушание: »се бо в беззакониих зачат есмь и во гресех роди мя мати моя» (Пс. 50, 7).



 В ответ на это кто-нибудь, возможно, пожмет плечами и скажет: «Глупый, ненужный вопрос! Разве что-нибудь зависит от нас? Разве нас о чем-нибудь спросят, примут во внимание наши надежды? Разве опыт ушедших, канувших в небытие лет не убеждает, что каждый из нас – всего лишь микроскопический и легко заменяемый винтик огромной и безличной машины? Разве есть кому-нибудь дело до других? И не лучше ли отбросить все пустые мечты и желания, поступив так, как поступают миллионы людей в новогодний вечер: выпить, повеселиться, пошуметь и этим хмельным весельем заглушить несносный бой часов? Что будет – то будет, нечего об этом думать: прожили год, проживем и другой. Только бы без громких фраз, пустых надежд и никчемных мечтаний!»
В ответ на это кто-нибудь, возможно, пожмет плечами и скажет: «Глупый, ненужный вопрос! Разве что-нибудь зависит от нас? Разве нас о чем-нибудь спросят, примут во внимание наши надежды? Разве опыт ушедших, канувших в небытие лет не убеждает, что каждый из нас – всего лишь микроскопический и легко заменяемый винтик огромной и безличной машины? Разве есть кому-нибудь дело до других? И не лучше ли отбросить все пустые мечты и желания, поступив так, как поступают миллионы людей в новогодний вечер: выпить, повеселиться, пошуметь и этим хмельным весельем заглушить несносный бой часов? Что будет – то будет, нечего об этом думать: прожили год, проживем и другой. Только бы без громких фраз, пустых надежд и никчемных мечтаний!»